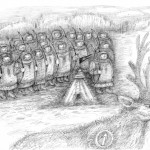Текст: Анна Груздева
Фото: Антон Петров
Иллюстрации из книги: Наталья Корчемкина
Писатель Александр Григоренко, который ещё недавно был совсем неизвестен широкому читателю, сегодня уже заметный в масштабе страны сибирский автор. Его дебютный роман о человеке тайги «Мэбэт» в минувшем году вошёл в шорт-лист премии «Большая книга», а в этом году его вторая книга с не менее загадочным названием «Ильгет. Три имени судьбы» вошла в шорт-лист премии «НоС».
На третий день Красноярской ярмарки книжной культуры, где Григоренко презентовал свой новый роман читателям, книгу купить уже было нельзя: скупили всё. Мы попытались узнать, как Александру Григоренко, человеку совсем не из тайги, а из небольшого Дивногорска, удалось придумать своеобразный таёжный эпос, который так полюбили жители больших городов.
— Почему вы решили написать не книгу о человеке города, человеке деревни, как Астафьев или Распутин, а о человеке тайги?
Малица — длинная мужская одежда глухого покроя, шьётся из оленьих шкур шерстью внутрь, только подол — шерстью наружу; иногда имеет капюшон из более тонких шкур мехом вверх; к рукавам пришиваются рукавицы.
— Я писал и до «Мэбэта», но только когда нарядил своих персонажей в малицы, дал им в руки пальму, поместил в таёжное пространство, смог говорить о вещах, которые мне интересны. Всю жизнь я по-хорошему завидовал нашим классическим бытописателям, рассказчикам — Довлатову, Чехову, моему любимому Шукшину — но идти тем же путём не получалось: всё время казалось, что проваливаюсь в какую-то журналистику. Для меня самого загадка, почему получилось написать про человека тайги. Возможно, сыграло роль то, что пространство тайги — пустое, внеисторическое, и это даёт простор для писателя. В тайге вообще можно всё заново начинать, там всё как в первый раз, за персонажами не тянется никакого исторического шлейфа. Она как чистый лист.
— Вы говорили, что в понимании большинства россиян русское культурное пространство обрывается за Уралом, а тайга воспринимается как пустота. Почему вам хотелось её оживить, наполнить чем-то?
— Тайга воспринимается как место, а место — это не культура, это фон. И поскольку это пространство, по сути, не оставило никаких письменных культурных источников, оно видится даже не как периферия истории, а как белое пятно. Естественно, у нас есть свои писатели, которые тоже помещали героев в тайгу, Астафьев в первую очередь. Но у Астафьева тайга — это часть русской истории. И в этом его большая заслуга.
И в целом именно эта пустота закрепилась в нашей культуре как основной знак Сибири. Понятие «сибирская ссылка и каторга» — образ путешествия в смерть, образ выключения из жизни. Это один из столпов традиционного русского сознания, такой же как «поэт — Пушкин», «Москва — сердце России», «Петр Первый перевернул страну»… Этот образ столетиями укреплялся образованием, и ни прежде, ни теперь никакая реальность его не может преодолеть. И уже лет полтораста, с кратким перерывом на советскую эпоху, мы слышим о том, что Сибирь надо отдать кому-нибудь, что её рано или поздно заберут китайцы, что это вообще безлюдная территория, и даже миллионные сибирские города не убеждают в обратном. Это ж не только злые либералы, а обычные люди часто так говорят, сам слышал. И это не их вина, просто образ сильнее реальности.
Никому же не придёт в голову сказать: «Зачем нам Урал?», потому что там Строгановы, Демидовы, Невьянская башня, Медная гора, Данило-мастер, там Серебряное Копытце живёт. Бажов вбил образ этой земли в русское сознание так прочно, что его уже ничто не разрушит. А Сибирь реальная по-прежнему борется с образом пустоты. Естественно, у таёжных народов, которые здесь жили, была своя культура, которая их поддерживала и поддерживает до сих пор. И фольклористы, которые собирали северные легенды, её сохраняли. Но она в русскую культуру не вошла, а осталась в пределах чистой науки.
— Получается, что вы в своих книгах как бы перевоссоздаёте мифы, которые есть в древней культуре?
— Я создаю мир, который, по моим представлениям, должен быть реальным. Как любой человек, работающий с литературным текстом, я строю художественный мир с нуля. Ведь всё-таки искусство — это то, чего нет в реальной жизни.
— А как родился мир «Мэбэта» и «Ильгета» у вас в голове? Были какие-то драматургические зацепки, интересные образы? Ведь сложно так — раз — и придумать объёмный таёжный мир, где сплетаются фантастическое, историческое и этнографическое.
— Если говорить о главном герое «Мэбэта», то аналогичного ему человека ни в одном северном сказании вы не найдёте. Мне было интересно спаять ницшеанский мотив сверхчеловека и таёжный миф. У хантов есть поверье, что когда тень человека начинает двигаться сама — пришла смерть. Но хант может пойти в святилище, которое находится где-то в устье Печоры, и выпросить у обитателей внеземного мира пару дней, недель или месяцев жизни, если докажет, что это ему действительно нужно. Этот драматургический «мотор» вытягивал «Мэбэта». В этой книге я старался в силу своих способностей воссоздать материальный мир, потому что легенда не должна висеть в воздухе, она должна быть вещной, осязаемой.
А что касается книги «Ильгет. Три имени судьбы», то в её основе сюжетный мотив, который очень часто встречается не только в кетских сказаниях, но и ненецких. Это история двух сирот, которых подбирают враги и воспитывают. Это почти мелодраматическая история, в которой герои не знают, кто они, откуда? Только взрослея, начинают понимать, что они другие, иные, каким-то образом попавшие в чужой мир. И начинают искать себя. Этот поиск и двигал второй книгой. Драматургия вообще начинается тогда, когда ты ставишь героя в невыносимые обстоятельства.
— А что вас вдохновляло при создании книг, что вы читали из древнего северного эпоса?
— Я работал с разными источниками, в том числе с академической серией «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». В ней есть всевозможные мифы, сказки, героические сказания, военные истории, бытовые сюжеты… На последние я больше всего опирался. И, конечно же, это не переработка какого-то целостного эпоса, скажем, такого как «Гэсэр» у ненцев. Скорее, я напитывался атмосферой сказаний, вживался в материал, всматривался в повадки таёжных людей, их быт, обращал внимание на фразеологизмы. Мне нужно было придумать, например, как люди ругаются. «Росомаха!» или «твой ум где-то далеко ходит» — из народного северного эпоса, а «рыбье дерьмо» или «пустая ты кость» это уже мои придумки. Когда что-то появлялось органичное тексту, и я этому доверял, это естественно вплеталось книгу.
— И «Мэбэт», и «Ильгет» погружают читателя в глубины архаического, первобытного сознания, древнюю экзотику. Зачем человеку города, опирающемуся в повседневности не на мифы и предания, а на гаджеты и коммуникации, книжка про человека тайги?
— Человеку свойственно искать знания о человеке и о самом себе. Неважно, о чём ты пишешь: о моряках, о лётчиках, о таёжниках, о преступниках… Самый главный вопрос к книге: какие новые знания о человеке она даёт? Гаджеты и все эти модные штуки — это самые обычные костыли, они были и триста лет назад, только другие. Но эти костыли не меняют сути человека: как и в древние времена, он не хочет быть голодным и хочет быть счастливым. Желает узнать, кто он на самом деле. Скажем, у моей мамы в деревне Нижегородской области и «Мэбэта», и «Ильгет» прочитали с большим удовольствием. Хотя что нижегородские люди знают о нашем севере? Количество жизненных сюжетов, ситуаций ограничено, но нам важно заново ставить перед собой и переживать важные вопросы, которые крутятся вокруг самых обычных вещей. Вот что такое смерть? Явление повсеместное, обязательное… Но другое дело, когда смерть — перед тобой. Напряжение от переживания смерти у человека тайги, нижегородского крестьянина, жителей многомиллионных Москвы, Нью-Йорка или Токио отличается лишь нюансами. И если ты смог настроить человека на сопереживание, значит книжка будет работать, если не сумел, то… не сумел.
— Да, вы проговариваете какие-то общечеловеческие вещи через истории таёжных людей, но мне показалось, что ваши книги отличает интересная линия, связанная с кровным родством, которая редко встречается в современной литературе. Сегодня мы даже в собственной семье часто атомизированы, у нас нет культа рода. Напротив, у вас кровь — одна из самых сильных вещей, которая объединяет людей.
— Этим мотивом я не хотел что-то поменять в отношении людей к семье и родственникам: люди живут так, как их вынуждают к этому обстоятельства. Семейность была крепкая, как правило, в крестьянском быту, в деревне многие работы выполняются коллективно, начиная со вспашки больших наделов и заканчивая заготовкой капусты. Да, один из главных персонажей «Ильгет», Кукла Человека, говорит: «Кровью помнят люди».
Бывают, наверное, у всякого человека ситуации, когда он ощущает себя отбросом: жилья не досталось, все кругом пинают, а вокруг вон сколько благополучных окон светится… Почему они, а не я? Где моё истинное место, ведь если я родился, значит я должен где-то помещаться? «Человек не приходит в мир без земли и пищи» — говорит мать Ильгета. И на самом деле это так, это на самом деле христианская мысль. Просто иногда человек и его место в мире не совпадают, и это зачем-то нужно.
— Ваши книги вообще пронизаны христианской идеей страдания, смирения, покаяния. Почему вам было важно ввести религиозные мотивы в текст?
— Мне не интересен мир без Бога, ведь он становится беспричинен — значит неразумен, случаен. А если случаен, то тогда зачем мы предпринимаем что-то? Я не борец с материализмом, просто мне материализм скучен. Интересно, когда человек подходит к пониманию Бога как общей причины всего, как герои моих книг.
— Как думаете, почему ваши книги популярны? Ведь это уникальный случай, когда книги малоизвестного сибирского автора расходятся на КРЯККе как горячие пирожки.
— Может быть, это желание увидеть некий сибирский культурный артефакт. Потому что в литературном ремесле есть свои тенденции, я даже читал в интернете инструкции по производству романов, и там сказано, что герой обязательно должен быть менеджером или дизайнером, а действие должно происходить в Москве. А тут появляется что-то совсем из другой оперы…
— А вы соглашаетесь с литературными критиками, которые находят переклички между вашими книгами и книгой Маркеса «Сто лет одиночества» или «Песнью о Гайавате» Логнфелло?
— Мне кажется важным, что вообще есть интерес к тому, что я пишу. Потому что самое страшное — это молчание. Вот ты три года книжку пишешь или кино снимаешь, весь на нервах, со всеми переругался, а тебя даже не ругают. Это катастрофа. Но мой опыт создания книги не вымученный и не драматический, а довольно спокойный. Я в детстве мечтал стать артистом. Наверное, что-то из этого осталось во мне, потому что литература ближе всего к лицедейству. Самый главный кайф заключается в перевоплощении, в способности стать другим. И чтобы «Мэбэт» отличался от «Ильгета» нужно ведь постоянно меняться. Вы же знаете, что на вторую книгу смотрят гораздо более пристально, чем на первую. Мой приятель, служивший в ВДВ, говорил, что первый раз прыгать с парашютом — пустяк, а вот второй раз — страшно.