Текст: Анастасия Тихонова
Фото: Лена Франц
Беседа проходила на Красноярской ярмарке книжной культуры, организованной Фондом Михаила Прохорова
С Полиной Барсковой можно говорить о поэзии как с поэтом и филологом, об образовании как с педагогом, о границах как с мигрантом, впитавшим культуру нескольких стран, и о чём угодно другом как с умным и открытым человеком. Однако поводом к настоящему разговору стал выход её книги «Живые картины», основанной на дневниках ленинградских блокадников, которые Полина изучала в течение последних 10 лет. На какие вопросы можно сегодня найти ответы в свидетельствах трагедии, случившейся 70 лет назад? Кому и для чего они могут быть нужны?
Откуда берётся личное
— Вы пишете о блокаде, как о чём-то очень личном, и это явно сознательная позиция. В книге вы переплетаете документальное, художественное повествование, автобиографические зарисовки — это, безусловно, производит сильное впечатление. У меня появилось предположение о том, почему это так, и я хотела бы попросить вас подтвердить его или опровергнуть. Я родилась в Сибири, здесь выросла и прожила всю жизнь: казалось бы, где я, а где блокада. Но я родилась в середине восьмидесятых, мой дом, естественно, был наполнен советскими книгами, и, разумеется, там были книги и о блокаде, дневники детей. Когда ты маленький, когда в шесть лет ты это читаешь, то впечатление настолько мощное и пронзительное, что потом всю жизнь воспринимаешь это как что-то личное. Ваша история, несомненно, иная, она наверняка связана с тем, что вы родились и росли в Ленинграде. Но ведь не всякий, кто родился в том месте, где произошли трагические события, будет настолько их в себя впускать и так глубоко их воспринимать. Мне кажется, для этого нужны ещё яркие впечатления. Были ли какие-то у вас?
— Это замечательно сформулированный вопрос, для меня очень важный и очень сложный. Мне его всё время задают, так или иначе. Самая частая форма — меня спрашивают, были ли у меня бабушки и дедушки в блокаде. Скажу сразу: нет. Более того, я выросла в Ленинграде на юге, неподалёку от знаменитого блокадного памятника. И даже была там вскоре после его открытия. Он вызывал только ощущение невероятной помпезности: мрамор, золото, многочисленные фигуры, стоящие горестно и красиво. Никакого энтузиазма у меня в связи с ним не возникло, потому что как можно быть с этим связанной? Трудно быть связанной с мрамором и золотом.

Справка
Полина Барскова — поэт, филолог, переводчик. Родилась 4 февраля 1976 года в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского университета и аспирантуру Калифорнийского университета. С 1999 года живёт в США. Преподаёт русскую литературу в Хэмпшир Колледже (Амхерст, Массачусетс). Автор семи сборников стихов, ряда филологических статей и поэтических переводов. Персональная страница на «Новой литературной карте России». Страница на сайте проекта «Вавилон».
В 20 лет я уехала из города, и прошло много лет, прежде чем в один из визитов я оказалась на выставке художников, которые изображали блокадный город. Это была выставка из запасников музея города. Кроме меня в тот день на выставке никого не было, и я одна ходила и смотрела на эти работы, яркие, красивые и запредельно страшные. До того момента у меня было ощущение, что я что-то о блокаде знаю, но внезапно выяснилось, что толком я не знаю ничего. И всё то знание, которым жителям города предлагается замотать это место, чтобы оно не болело, никуда не годится. В этот момент я поняла, куда мне нужно идти. Ведь у меня была выучка, я училась на замечательных филологических кафедрах (каким была студентом — другой разговор) — и я пошла в архивы города. И к дикому удивлению абсолютного дилетанта, которым я на тот момент была, я обнаружила огромное количество материала. Блокада переполняет ленинградские архивы.
Потом, когда я стала про это говорить, все крайне изумлялись. На всех моих разговорах с читателями, выступлениях в университетах, в интервью меня спрашивали: «Где вы находите этот поразительный материал?». И когда я отвечала, что ходьбы от Невского 6 минут — зайдите в любой архив, и там каждому из вас хватит материала на 30 лет публикаций, то на меня смотрели с удивлением, с какой-то неловкостью. А я, впустив в себя этот яд, уже не могу остановиться. Когда я стала узнавать про жизни этих людей, меня в них всё поражало. Огромное количество человек было поставлено в самую страшную биологическую ситуацию, которую мы только можем — но не хотим — себе представлять.
— А мне кажется, не можем, даже если захотим, честно говоря. Ведь нельзя даже зубную боль себе толком вообразить.
— «Можем или нет?» — это действительно спорный и очень для меня важный творческий вопрос. Несомненно одно: эти люди решают массу прагматических и этических задач, и сопротивляются ситуации, которая сейчас их сделает зверями, а потом убьёт, изо всех сил, как только умеют. Это сопротивление принимает разные формы: если сейчас ты поделишься кусочком сахара, то это абсолютный подвиг. Ты уже вступаешь в дикий конфликт со своей биологией. Или пишешь стихотворение о том, что ты видишь, хотя вообще-то тебе больше всего хочется замотаться в миллион мерзких тряпок и лежать. Я провела с этими людьми в архивах десять лет. Они мне стали — вы, вероятно, правы, и нельзя сказать «понятны» — стали любимы. Это слово будет особенно точным, если принять, что любовь — это сосредоточение внимания. И, кроме того, меня поражало и поражает абсолютное отличие ситуации, от великой идеологизированной формулы Ольги Берггольц о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Это не так. И люди забыты, и вся ситуация в каком-то смысле забыта тоже.
И я ощущаю невероятную печаль оттого, что некоторым из самых, на мой взгляд, оригинальных писателей, художников, поэтов, живших в русском 20 веке, выпало достичь максимума себя с 1941 по 1944 год в Ленинграде, а потом от них не осталось ничего. Или, ещё страшнее: что-то осталось, но как будто никому не нужно. И это проклятие забвением меня ужасно раздражает. И, в частности, то, что я называю «P.S.» в этой книжечке, «Живые картины»…
— Пьеса о любви пары? Я её прочитала, знаете, очень страшно, хоть и красиво.
— Конечно, страшно, и нестрашно быть не может. Однако у меня есть комплекс по этому поводу: не слишком ли там красиво? С другой стороны, Эрмитаж — это не может не быть красиво. Там художник и искусствоведша — и это не может не быть возвышенно: они, судя по дневникам, воспоминаниям, очень остроумные молодые люди своего времени. И такая масса коллизий в этом маленьком тексте, что мне даже стали задавать пикантные, как людям кажется, вопросы: дескать, а что у нас там насчёт блокадной любви.
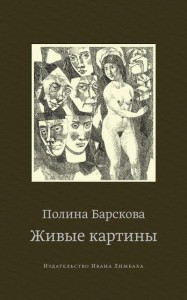
«Живые картины» — первая прозаическая книга поэта — вышла в петербургском Издательстве Ивана Лимбаха в ноябре. «Самая нежная и точная проза на русском языке, которую я читал за последние годы .Будто домой вернулся» — описал книгу критик Кирилл Кобрин.
Блокадная любовь — это огромная тема, но давайте сразу договоримся о терминах. Если вас интересует воплощение этой эмоции, то в городе, например, неистовствовала проституция. Потому что, если тебе нужно получить хлеб, ты отдаёшь всё. В этом смысле, в связи с невероятно развившимся «чёрным рынком», секса в самом грустном и гротескном его проявлении было очень много. Если же мы говорим о невозможности одного человека жить без другого человека, то, конечно, и это было. Но формы этого были бесконечно печальные. Так вот, моя пьеса — о блокадной любви второго типа. И персонажи в ней — блестящая искусствоведша и художник — они настоящие. В том смысле, что и он и она — совершенно реальные лица. У нас остались их документы, дневники и письма, именно на них я опираюсь. Когда я их не использую, то меняю язык таким образом, чтобы сразу стало понятно, что здесь говорит человек 21 века, потому что подделывать язык блокады бессмысленно, это провал… Так вот, по поводу молодого человека, художника, у нас есть свидетельства гигантов того времени, типа Тырсы (имеется в виду ленинградский художник Николай Андреевич Тырса — прим. Siburbia), которые говорили: «Вот, это наш следующий гений», говорили, что ни у кого не было такой руки рисовальщика, как у него. Но от него не осталось фактически ничего, только какие-то зарисовочки, альбомчики, вот это обещание кем-то стать. И меня эта тема — его исчезновения — очень трогает. И поэтому мне захотелось написать его историю.
Однако нужно отметить, что историю можно писать по-разному. Я не говорю, что каждый человек, который прикасается к историческому повествованию, непременно должен просидеть десять лет в архиве. Никто никому ничего не должен, и это важно. Но, отношение к истории всегда очень чувствуется. Почему человек пишет о блокаде? Бывает, что автору просто кажется, что это по-особенному трогательно и слегка пикантно, и потом, блокада — это сразу страшно, сильная эмоция. Вот этот подход «читателя зацепит» виден сразу. Но видно и противоположное: мы можем прочесть, например, замечательные стихи поэта Сергея Завьялова, филолога, который занимался этой темой, думал, как-то включил в себя другое время.
Сколько раз подойти к снаряду
— Так совпало, что я совсем недавно, в прошлом году буквально, читала книгу о блокаде, большую, основательную, исследовательскую, которая тоже вышла не так давно…
— Сергея Ярова, очевидно.
— Да! И там очень видно, что человек над этим много работал…
— Он всю жизнь этому посвятил.
— Вот именно, и он берёт большой смысловой блок и начинает медленно, тщательно о нём рассказывать, анализировать, потом переходит к следующему. Но, глядите, ваши герои совсем другие, они оживают, ходят, дышат, разговаривают. И это, извините за такую метафору, совершенно другой подход к снаряду.
— Я согласна, совсем другой. Но ведь это такой снаряд, что чем больше мы к нему подходим, сострадая, тем лучше. К работе Ярова и к нему самому я отношусь с бесконечным почтением. К тому же я по выучке своей филолог и писала о блокаде филологические статьи для узкой профессиональной аудитории. Всё это работа с рацио, невероятно важная…
— Яров тоже именно это делает, мне кажется: обращается к рацио.
— Да, но дело в том, что я гибридный персонаж — думаю о словах и делаю слова. И в какой-то момент у меня возникла потребность попытаться достичь других мест моего читателя. Чтобы моему читателю стало не только интересно и важно, но и невыносимо. И для этого я использую формы оживления. Это достигается тем, что мы называем художественным текстом, причём я ставлю художественный текст на грань с документальным и смотрю, что получается, если их сдвигать всё плотнее. Как начнут корчиться и говорить друг с другом документ и наши представления о документе. Потому что очень трудно думать о том, что случилось 70 лет назад. И совсем невероятно трудно — думать о катастрофе, которая случилась 70 лет назад. И опять же, за это время меня так часто спрашивали, причём прелестные, искренние люди: «Это же всё так ужасно, зачем ты это делаешь? Что с тобой происходит во время этого, не вредишь ли ты себе? Как можно десять лет заниматься адом?».
Например, когда художник, который становится персонажем моей пьесы, уже умирает, он в дневничках заботится о том, как себя чувствует его возлюбленная. На нём самом уже живого места нет совершенно. Он художник, у которого руки превращаются в гнойные культяпочки, он сам весь уже на грани человеческого, но любые проявления её простуды волнуют и мучают его. И мне кажется, это такое же важное открытие о человеческой природе, как и то, что они оба живут из-за непрерывного голода в постоянном раздражении друг на друга. И это тоже мы можем видеть из дневников. То, что эти люди, преодолевая себя, любят друг друга и бесконечно любят свой город — это видно по тому, что они постоянно пишут о нём, по тому, как они его изображают, как относятся — всё это нам говорит хорошие вещи о нас. И для меня эти занятия стали уютным местом, как это ни дико звучит, потому что я узнала о людях такие вещи, которые очень хочется знать. Вдохновляющие вещи.
— Это звучит не так уж и дико. То, что вы говорите сейчас, очень созвучно с другим подходом к иному, но очень похожему снаряду. Знаменитый психиатр Виктор Франкл был евреем, пережил три концлагеря, потерял в них всю свою семью, но, несмотря ни на что, организовывал прямо в этих лагерях свои службы психологической помощи заключённым. И он в своей книге «Человек в поисках смысла» спорит с Фрейдом. Фрейд говорил в начале 20 века, дескать, поставьте разных людей в одинаковые условия невыносимого голода, и они все потеряют человеческий облик и превратятся в одинаковых животных. А Франкл, исходя из увиденного в лагерях смерти, сделал вывод, что это не так — голод, холод, болезнь, ужас срывают маски не только с животных, но и со святых. И это тоже очень вдохновляющий вывод и для самого Франкла, который дальше начинает писать интереснейшие вещи про смысл жизни, и для читателя, безусловно. И блокада, по сути, о том же самом. Условия жизни невыносимы настолько, что и животное, и святое здесь очень близко. И поэтому вполне понятно, как этим можно вдохновляться, как это может заставить верить.
— Да, с одной стороны у меня есть вот это вдохновение. А с другой — я чувствую обиду на общество, систему, государство ли, на тот контракт, который эти институции заключили, чтобы блокада стала «немножечко удобной».
И надо упомянуть, хотя это отдельный и большой разговор, что в некоторых других государствах это получается делать. Например, в Израиле, Германии, памятники — это не золото, не мрамор. Это огромные центры, в которых бережно собраны архивы, где есть удобные компьютерные системы, там происходят мероприятия, туда постоянно идут школьники и студенты. То есть это места не ритуальной памяти, которая трогательна, но крайне недостаточна, это места памяти активной.
У меня случился Ленинград по моим личным причинам. Но вообще у нас большое изобилие таких больных мест: был ГУЛАГ, был Голодомор, Бабий Яр и так далее. Если бы мы активно продолжали работать с 20 веком, с советским веком, если бы мы своей любовью, направленным вниманием, лечили, вычищали этот гной, если бы каждый из нас сгрёб хотя бы немного этого всего своей ложечкой памяти, если бы наши мёртвые к нам вот таким образом вернулись, то нам было бы хорошо с ними. Труда хватит на всех не только потому, что трагедий было много, но и потому, что у каждой из них — множество разнообразных аспектов. Даже в этой вот книжице не только ведь любовная история. Там есть, допустим, повесть, которая называется «Листодёр», о двух, на мой взгляд, невероятно важных свидетелях блокады. Это великий драматург и сказочник Евгений Шварц и другой писатель, которого все знают, но на которого в каком-то интересном смысле не обращают внимания, Виталий Бианки.
— Да, это я тоже прочла и очень удивилась.
— Правильно, вы удивились, ведь что такое для нас Бианки — носы, клювы, лапки… А на самом деле он является среди прочего крайне любопытной фигурой: автором одного из самых замечательных блокадных дневников. Этот поразительный текст называется «Город, который покинули птицы». Он опубликован, маленьким, но тиражом. И никем не прочитан — это тоже часть той темы памяти и забвения, о которой мы говорили. Когда я прочла этот текст, то решила написать о двух сказочниках.
Что такое сказочник вообще и советский в частности? Это тот, кто говорит аллегориями. Аллегория — это от греческого выражения «говорить по-другому». Когда не можешь говорить прямо, ты говоришь аллегориями, то есть, обиняком. И вот, два сказочника оказываются в ситуации, когда им хочется говорить о том, что стало с их городом… То есть опять и опять в центре оказывается невероятный город, со странной судьбой. Вся она — про борьбу с памятью и борьбу за память. Город, который в 1924 году чуть не стал называться «Ленин», потому что первая идея переименования была именно такой.
Город, который столько пережил и творцы которого пытались всё время то спрятаться, то переделаться, то подладиться… Изо всех этих попыток была соткана такая удивительная вещь, как ленинградская литература. Я говорю даже не о петербургской высокой литературе с её героями, Ахматовой, Мандельштамом и другими. Я говорю именно о ленинградской литературе со своими странными законами и героями. В какой-то момент, пройдя катастрофы и ад, в 60-е и 70-е она принесла нам волшебную роскошь литературы, от Хвоста, Аронзона и Бродского до Кривулина, Шварца, Миронова. Это невероятное богатство, которое всегда оказывается связано с испытаниями, которые выпали на долю этого города, всё поставляло и поставляло новые смыслы.
Что видится на расстоянии
— Как вы думаете, дистанция, на которой вы находитесь, проживая в Америке, как-то влияет на то, что вы делаете? Или нет разницы, в какой географической точке этим заниматься?
— Очень сильно влияет. Но дистанция заключается не в количестве километров, а в ином подходе и том образовании, которое я получила. Американское гуманитарное образование не избегает вопросов политической этики.
— То есть там нет священных коров?
— Может быть, они и есть, но уж точно не в отношении советской истории. В отношении собственной истории у них, вероятно, всё не так уж безоблачно. Но тебя, тем не менее, учат важному понятию «критика», учат постоянно подвергать критике всё, и, в том числе, своё собственное отношение к предмету.
— А от анализа критика, которую вы имеете в виду, чем отличается? Элементом оценки?
— В критике, да, в отличие от анализа есть элемент оценки и недоверия. Но кроме критики дистанция дала мне ещё кое-что. Когда я уехала в 20 лет, а через 10 лет вернулась той же самой Полиной и стала расспрашивать и разговаривать о блокаде, то это поначалу вызывало даже у самых тонких и прекрасных людей странную реакцию. Они смотрели на меня так, что я видела: они хотят, чтобы мы сейчас же, немедленно замолчали. Я им нравилась, они мне верили, но им казалось, что лучше бы об этом помолчать. А мне казалось, что совершенно необходимо говорить. И кажется так до сих пор. И это огромная разница — здесь часть отношения к блокаде даже у самых замечательных, ответственных и страдающих людей в известной степени такова, что этому ужасу никакое слово не может соответствовать. И я тоже это осознаю и не претендую на то, что мне удалось или когда-нибудь удастся создать слово, которое будет соответствовать тому, что происходило. Но для меня молчание — это никакое не уважение, это предательство.
А через сто лет, есть подозрение, то, что сейчас лежит и желтеет в архивах, попросту сгниёт. Такая вероятность есть. Давайте отдавать себе отчёт, во-первых, в том, как хранятся документы в советских и постсоветских архивах, а во-вторых, в том, что карандаш выцветает. Я напоминаю: карандаш выцветает. Все они писали карандашами, потому что чернила замерзали, и через сто лет мы эти документы не прочитаем. И эти люди совсем выцветут и стают. Они не заслужили этого, мне кажется.
Где граница целомудрия
— Когда вы говорили о том, что в нашей стране очень многое случилось, вы употребили очень яркую медицинскую метафору, про лечение, про очищение гнойных ран. Вот эта ваша концепция лечения через пристальное внимание напоминает какие-то психотерапевтические вещи. Когда врач говорит, что вы должны, условно, ту боль, которую в себе задавили в шесть лет, прочувствовать и высказать в свои тридцать пять для того, чтобы жить спокойно и перестать видеть кошмары по ночам…
— Да-да, вы абсолютно правы, не считая того, что мне тридцать восемь. И это тоже часть американского гуманитарного образования, потому что оно тесно связано с традицией психоанализа. И мне близка идея о том, что если ты молчишь и скрываешь боль, то рано или поздно тебя полностью заливает чернота. А если ты пытаешься говорить с собой или с человеком напротив как с вариантом себя, то ужас и стыд рано или поздно оставят тебя. Надо сказать, что у меня в жизни, как у многих из нас, был опыт болезни близкого человека. И это был один из первых моих серьёзных опытов в Америке. Мне сразу предложили сказать близкому человеку о диагнозе. Я точно тогда знала, мне сказали, что если бы это произошло в России, то болезнь, вероятнее всего, не обнаружили бы…
— Когда я готовилась к разговору, то прочитала ваше старое интервью на «Кольте» (имеется в виду интервью для проекта Линор Горалик «Частные лица: биографии поэтов, рассказанные ими самими — прим. Siburbia), речь сейчас идёт о вашей маме, которой диагностировали рак.
— Да, именно, и которая сейчас, слава богу, здравствует. Так вот, когда врач мне предложил сказать ей о диагнозе, я спросила: «Да вы что, с ума сошли? Как я ей скажу? За кого вы меня принимаете?». А этот удивительный врач сказал, что для него абсолютно дико моё предложение не говорить. Он спросил: «Как ты вообще это представляешь? Посмотри на себя: ты слабая, нервная, эмоциональная девочка двадцати лет, и ты понесёшь это? У тебя три дня. Ты можешь эти три дня провести со мной, мы будем гулять, разговаривать, будем пить, если хочешь (он был югославских кровей), но через эти три дня мы идём к ней и говорим». В итоге мы сказали, и сначала ей стало дико плохо. А потом душе её стало хорошо, потому что ей дана была сила самой разбираться с трагедией. И, когда я это увидела, то очень впечатлилась.
Так вот, ситуация, которую я сейчас описала, возвращает нас к бесконечному разговору, который я много раз вела с разными людьми в Петербурге, которым очень доверяю.
Другое дело, что когда ты начинаешь говорить, то, как умеешь, всем своим словесным аппаратом, всей своей силой или бессилием ты отвечаешь за то, чтобы даже говоря самые страшные вещи, оставаться целомудренным. У меня есть, естественно, модели в этом разговоре — и в их числе Франкл, которого вы упомянули. А если говорить о блокаде, у нас есть ряд замечательных образцов. Например, Лидия Яковлевна Гинзбург, и она — невероятный дар нам всем. Она умудряется говорить о таком и так, что страшнее уже никто ничего не скажет. И при этом её воспоминания невероятно целомудренные и чистые, в них нет ни жалости к себе, ни самолюбования, ни каких-то мелодраматических экзальтированных заходов…
— А где всё-таки проходит граница целомудрия? Там, где человек начинает рисоваться? Там, где он пытается использовать пережитое или увиденное с какой-то целью?
— Сама Гинзбург очень интересовалась этим вопросом и считала, что граница проходит прямо по прелестному телу Ольги Фёдоровны Берггольц. Там, где её тело и душа проводят эту работу, там можно наблюдать, как великий лирик Берггольц не справляется с соблазном превращения страдания в исторический капитал, причём капитал советский. Её начинает сносить, как говорит Гинзбург, в хорошо оркестрованную истерику между личными и коллективными вопросами. И тут-то становится видна известная проблема с целомудрием. Если Берггольц и Гинзбург читать одновременно, то можно многое узнать об интересующей нас теме. Этим я и занимаюсь: читаю людей, которые тогда писали, и пытаюсь делиться этим с другими людьми. Читаю курсы, веду семинары о блокаде.
Как чествовать память
— В Америке читаете курсы о блокаде?
— В Америке, да.
— Расскажите об этом, пожалуйста, хотя бы в двух словах, потому что я не слышала, чтобы у нас где-то читали полноценные курсы, посвящённые именно и только блокаде. И это свинство, конечно, что у нас нет этой системы.
— Да, это очень грустно, что в прошлом году меня позвали читать курс, большей частью которого был блокадный материал, не в Россию, а в Гарвард. На самом деле я знаю, что есть замечательные люди, благодаря которым я и здесь могла бы организовать какие-то лекции в нескольких вузах Москвы или Питера. Но у нас это не норма, это требует усилий. В то время как, например, курс по истории Холокоста — это абсолютная, заурядная норма для американского образования. Собственно, это звучит тривиально — сам этот вопрос о твоей ответственности перед собственной историей. Собственной или большей? Большинство людей, которые у меня на глазах изучают историю Холокоста — они вообще-то не евреи, они белокурые американские мальчики и девочки с носами пуговичкой, однако почему-то они страдают об этом, они тратят годы своей юности, которая даётся однажды, чтобы это изучать.
Это страшно, я опять говорю клише за клише, но прошлое — это дыра, которая остаётся за нами, и если мы не посмотрим, что в этой яме, то зараза вернётся. И есть одна метафора, которая мне не даёт покоя. Знаете, если тебя постоянно, из года в год, спрашивают, почему ты занимаешься блокадой, ты в какой-то момент начинаешь отвечать: «да по кочану, потому что я хочу». А потом ты думаешь, что может, действительно, есть какое-то мистическое объяснение? Мистического, конечно, ничего нет, но есть вот какая вещь. Папа и любимая подруга постоянно водили меня гулять в парк Победы. И мы понятия не имели, что он был воздвигнут натурально на костях. Он вырос надо рвами, куда сбрасывались блокадные люди. И сама мысль — не её ужасающий потенциал, а скорее потенциал символический — как же так, мы выросли над этими людьми, на этих людях, ничего о них не зная. Не то чтобы маленьким детям нужно было всё время рассказывать, просто эту память можно было чествовать по-другому, а не просто превращать это всё в ровное место.
Зачем учиться считать
— Если говорить о символическом потенциале разных явлений, то у меня есть свежее впечатление, которое ложится в контекст нашего с вами разговора. Получилось так, что в этом году я несколько месяцев провела в Мурманской области и много по ней ездила. Мурманск —тоже город-герой, там невероятно много Второй мировой, она пронизывает всё. И для меня, например, было неожиданно узнать, что по количеству снарядов на душу населения Мурманск уступает только Севастополю. На этих крохотных сопках в лесотундре происходили невероятные, чудовищные события. Но сильнее всего меня потрясло даже не обилие братских могил и жутчайших историй, связанных с этими местами. А то, что и трупы, и снаряды, упавшие тогда в лесотундру, мягко поглотил мох, и многие из них лежат там до сих пор. Их невероятно, непредставимо много. Охотники, рыболовы или дети забредают в лесотундру, не обязательно далеко от города, разводят костры. И там, подо мхом им попадаются снаряды, которые не взорвались тогда, но срабатывают сейчас, от тепла. Они взрываются, калечат, убивают. Это звучит невероятно, но Вторая Мировая война там, в Мурманской области, и сегодня, в начале двадцать первого века продолжает убивать людей, в буквальном, а не фигуральном смысле. Потому что снаряды так и не были вынуты, обезврежены и захоронены. Я вспомнила об этом, когда читала эссе Льва Семёновича Рубинштейна где он пишет, что главная беда России — это недозахороненность всего, убитых людей, неживых идей и так далее, я сразу подумала об этих снарядах. В этом смысле то, что вы делаете с памятью о блокаде, это не только оживление, это ещё и благое дело похорон, если говорить о них, как о дани уважения к памяти. И очень жаль, что у нас этим занимаются единицы.
— Да, по-хорошему, конечно, это должно было быть серьёзным институциональным усилием, должны были возникнуть научные центры, которые будут это всё исследовать. И история, которую вы рассказали о снарядах, была бы хорошей виньеткой для начала разговора на эту тему. Потому что до тех пор, пока леса нашей земли и нашей памяти не будут очищены, эта война действительно продолжит убивать. Посмотрите, ведь она убивает и сейчас, в новых военных конфликтах. Ведь вся мифология агрессии сегодняшнего дня связана с тем, как интерпретируется Великая Отечественная война. Все официальные мероприятия, связанные с ней, у нас десятилетиями выполняются, образно говоря, в золоте и мраморе.
Возможно, в войне, которая была пресечена то ли двадцатью миллионами жизней, то ли даже больше, «трагедия» — более важное слово. Но мы не считаем, не умеем считать убитых, и это является катастрофой. Знаете, пессимисты, назовём их так, говорят, что в блокаде умерли полтора миллиона. А оптимисты — что 600 тысяч. «Какая нам разница теперь, через 70 лет?», — может кто-то спросить. А разница в каждой человеческой жизни. Пока государство не научится спрашивать себя, пока мы не научим его задаваться вопросом о том, какова цена каждой отдельной жизни, та война продолжит нас убивать. Потому что у нас есть привычка не считать, она сохранилась до сих пор. И что мы видим сейчас? Мы видим, что в Россию снова идёт «груз 200», и мы снова его не считаем.
Читать также:
 «Мне повезло находиться в этой точке времени»
«Мне повезло находиться в этой точке времени»
Три года назад на КРЯККе мы поговорили с Линор Горалик о фестивалях, поэзии и, конечно, маленьких животных. Интервью этого года — скоро на «Сибурбии».
 «Невозможно говорить ни про прошлое, ни про настоящее — везде болит!»
«Невозможно говорить ни про прошлое, ни про настоящее — везде болит!»
Председатель жюри литературной премии «Нос» и редактор отдела культуры в журнале «Русский репортёр» Константин Мильчин рассказал «Сибурбии» о природе литературных премий, функциях критики и идее фикс современной русской культуры.
 Андрей Родионов: «Интересных поэтов будут слушать, а скучных — нет»
Андрей Родионов: «Интересных поэтов будут слушать, а скучных — нет»
Поэт Андрей Родионов рассказал «Сибурбии», почему поэтические вечера нужно рекламировать, как рок-концерты, и за что чиновники не любят творческую молодёжь.



