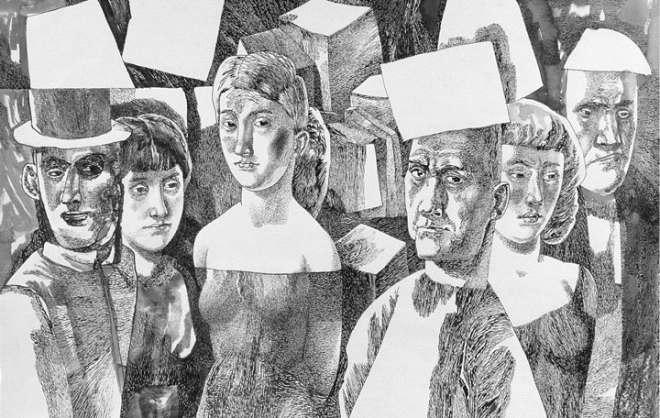Текст: Елена Макеенко
Картины Павла Зальцмана (его графика использована для оформления обложки): http://pavelzaltsman.org/
Полина Барскова — поэт, переводчик, филолог, преподаватель. Без малого тридцать лет назад — девочка-вундеркинд, соперничавшая (как минимум, мысленно) с Никой Турбиной и выигравшая, как минимум, жизнь. Уже без малого двадцать — жительница США, преподающая русскую литературу американским студентам в Хэмпшире. Исследователь блокады Ленинграда, автор академических статей и стихотворных сборников. В конце прошлого года в издательстве Ивана Лимбаха у Барсковой вышла книга не-стихов «Живые картины», небольшого физического формата и объёма, огромного внутреннего веса и красоты.
Этот сборник текстов, являющийся на самом деле цельным и чрезвычайно плотно скрученным организмом, принято характеризовать как «первую книгу прозы поэта». И характеристика эта настолько неустойчива, что самому поэту приходится доказывать то ли себе, то ли читателю, что она верна, используя цитаты самых разных своих собеседников. Примерно на середине книги один из них иронически замечает: «Проза сродни времени, его кажется слишком много, оно везде — сколько у тебя времени, столько у тебя прозы: не то стих, который вырывается-взрывается, а что ж нам потом делать?». И хотя реплика действительно значима для отношения текста Барсковой со временем, от вопроса «что ж нам потом делать?» эту прозу она уж точно не избавляет.
Формально — основанные на блокадных дневниках тексты, фактически — дневник читателя и поэта, в котором собственных воспоминаний и наблюдений, от детства до момента письма, ничуть не меньше, чем исторического материала. «Читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей, это уже физиология, остановиться читать нельзя», — пишет автор в первом тексте, «Прощатель» (он был опубликован в журнале «Воздух» до выхода книги, и стал считаться едва ли не манифестом). Писатель, верно, становится для читателя самогонным аппаратом, выжимающим из скопленного в читательской памяти настоящее и будущее время.
Среди текстов «Живых картин» — воспоминания о детском лагере, летних каникулах в Сибири и о получении американского гражданства, история братьев Друскиных и сравнительное жизнеописание (скорее, метафороописание) советских сказочников Шварца и Бианки, размышления об отцах, подругах и любовниках и, наконец, пьеса — «документ-сказка» — о любви художника Моисея Ваксера и Антонины Изергиной в холодном и голодном блокадном Эрмитаже. «Полагаю, память устроена, как суп, в котором двигаешь ложкой, как веслом, и всплывают неожиданные вещи в неожиданной очерёдности», — замечает Барскова в скобках. И в каждом тексте она тоскует и насмешничает, шокирует откровенным и утешает трогательным, путает многоголосьем и каждый раз отталкивает, притянув уже, казалось бы, чтобы прошептать на ухо самое главное.
Её витальная сила так велика и неукротима, что каждая буква на бумаге становится плотью и не останавливается, будучи написанной. Продолжает истекать, источать, изблёвывать нюансы и интонации, не давая ни графическим, ни грамматическим рамкам себя удерживать, не позволяя воспринимающему зафиксировать и запомнить прочитанное как известное. Чтение этих текстов — падение в горную реку, которая не даёт прийти в себя: ударяет, переворачивает, перехватывает дыхание и заставляет, в конце концов, восхищаться тем, насколько беспомощным тебя делает.
Беспомощность, стоит признаться, иногда вытекает ещё и из того, что Барскова говорит с читателем, как с собой — не допуская мысли, что её собеседник не угадывает с трёх нот прецедентных текстов, блокадных имён, ленинградских мест. В её личном синкретизме истории общей и частной взаимозаполняются любые лакуны. В её персональном Ленинграде труповозки, собирающие блокадные «подснежники», движутся в том же пространстве, что и автомобиль, сбивающий её возлюбленного, а работа прощения, которую всю жизнь выполняет бывший лагерный узник, осуществляется посредством того же механизма, что попытка простить биологического отца, не признавшего гениальную дочь. «…смысл всей затеи — не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несёшь себе, в себе» — и если автору это, в одному ему известной мере, удаётся, то для читателя текст делает задачу разделения отнюдь не простой.
Барскова обладает поразительным даром любить мертвецов: своих и чужих, ставших своими, — всех без разбору, как волчица, которая выкармливает любого щенка, оказавшегося близким и голодным. Она обиженно и страстно помнит любимых и разлюбленных — неважно кем, ушедших и оставивших в ней след — неважно как. Она баюкает словом завшивевшие дистрофичные тела своих героев в ворохе тряпок и приглашает вложить в их раны чужие брезгливые и любопытные пальцы. Невыносимо много красоты и нежности в жалком, страшном, мёртвом, почти совсем забытом — она выносит на руках, заворачивает в буквы, как хрустального ёлочного снегиря, как заледенелых бианковских лягушат, как пёрышки, которые нужно раздать в другие руки, прежде чем берущие обнаружат в обманчивой лёгкости свинцовую тяжесть. И в паре часов чтения — годы сострадания, со-бытия, сожительства с чужой памятью, принятой в свою.
А через пару часов самым естественным движением, какое вызывают только по-настоящему драгоценные тексты, становится — перевернуть и начать с первой страницы. Чтобы наверняка разглядеть неувиденное, не замотанное в цветные одеяльца, и удивлённо, испуганно — тоже полюбить.
Читать также:
 «Впустив в себя этот яд, я уже не могу остановиться»
«Впустив в себя этот яд, я уже не могу остановиться»
Поэтесса Полина Барскова много лет изучает блокаду Ленинграда, а только что у неё вышла первая книга прозы, посвящённая этой теме. Анастасия Тихонова встретилась с Полиной на КрЯККе, чтобы поговорить о памяти, молчании и личном переживании истории.
 «Невозможно говорить ни про прошлое, ни про настоящее — везде болит!»
«Невозможно говорить ни про прошлое, ни про настоящее — везде болит!»
Председатель жюри литературной премии «Нос» и редактор отдела культуры в журнале «Русский репортёр» Константин Мильчин рассказал «Сибурбии» о природе литературных премий, функциях критики и идее фикс современной русской культуры.
 Дневник как способ выжить
Дневник как способ выжить
Книга Полины Жеребцовой «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994–2004 гг.» вышла ещё весной, но в какой бы момент вы ни сели за её чтение — окажется, что именно сейчас она наиболее актуальна. И это, откровенно говоря, так себе радость.
 Книга года
Книга года
В конце прошлого года в издательстве Ad Marginem вышла книга Флориана Иллиеса «1913. Лето целого века» — хроника европейских событий, описанная почти в анекдотах о видных деятелях модернистского искусства. В начале нового года чтение кажется ещё более увлекательным и интригующим.
 Рома Либеров: «Я давно объявил войну памятникам»
Рома Либеров: «Я давно объявил войну памятникам»
Рома Либеров, который мечтает снять за свою жизнь 137 фильмов о писателях, рассказал «Сибурбии», чем живые люди отличаются от памятников, а Сергей Довлатов от Сергея Удальцова.